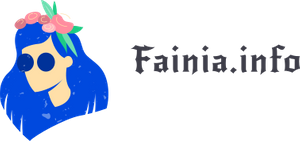Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается.
Проходит тысяча мгновенных лет,
И перевоплощается мелодия
В тяжёлый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»
В корнета гвардии — о, почему бы нет.
Туман. Тамань. Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня.
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.
Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит, —
Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стеснённой грудию восстонет,
И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?
Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.
На родине красивой смерти — Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза,
И белый лоб широкой кости, —
Певца прекрасные глаза,
Чело прекрасной кости
К себе на небо взяло небо,
И умер навсегда
Железный стих, облитый горечью и злостью.
Орлы и ныне помнят
Сражение двух желез,
Как небо рокотало
И вспыхивал огонь.
Пушек облаков тяжёлый выстрел
В горах далече покатился
И отдал честь любимцу чести,
Сыну земли с глазами неба.
И молния синею веткой огня
Блеснула по небу
И кинула в гроб травяной
Как почести неба.
И загрохотал в честь смерти выстрел тучи
Тяжёлых гор.
Глаза убитого певца
И до сих пор живут не умирая
В туманах гор.
И тучи крикнули: «Остановитесь,
Что делаете, убийцы?» — тяжёлый голос прокатился.
И до сих пор им молятся,
Глазам,
Во время бури.
И были вспышки гроз
Прекрасны, как убитого глаза.
И луч тройного бога смерти
По зеркалу судьбы
Блеснул — по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах.
Певец железа — он умер от железа.
Завяли цветы пророческой души.
И дула дым священником
Пропел напутственное слово,
А небо облачные почести
Воздало мёртвому певцу.
И доныне во время бури
Горец говорит:
«То Лермонтова глаза».
Стоусто небо застонало,
Воздавши воинские почести,
И в небесах зажглись, как очи,
Большие серые глаза.
И до сих пор живут средь облаков,
И до сих пор им молятся олени,
Писателю России с туманными глазами,
Когда полёт орла напишет над утёсом
Большие медленные брови.
С тех пор то небо серое —
Как тёмные глаза.
Михаил Кузмин. Лермонтову
С одной мечтой в упрямом взоре,
На Божьем свете не жилец,
Ты сам — и Демон, и Печорин,
И беглый, горестный чернец.
Ты с малых лет стоял у двери,
Твердя: «Нет, нет, я ухожу», —
Стремясь и к первобытной вере,
И к романтичному ножу.
К земле и людям равнодушен,
Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен,
Ты миру чужд, и мир — тебе.
Ты страсть мечтал необычайной,
Но ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной, —
Могилой стал тебе Кавказ.
И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная метель.
Ты выбираешь — что? две пули
Да пошловатую дуэль.
Поклонник демонского жара,
Ты детский вызов слал Творцу
Россия, милая Тамара,
Не верь печальному певцу.
В лазури бледной он узнает,
Что был лишь начат долгий путь.
Ведь часто и дитя кусает
Кормящую его же грудь.
Игорь Северянин. Лермонтов
Над Грузией витает скорбный дух —
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,
Чьё имя очаровывает слух.
В крылатости он, как в ущелье, глух
К людским скорбям, на них взирая немо.
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема,
Он в девушках прочувствует старух.
Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.
Постигший ужас предопределенья,
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.
1926
Борис Слуцкий. Слава Лермонтова
Дамоклов меч
разрубит узел Гордиев,
расклюет Прометея вороньё,
а мы-то что?
А мы не гордые.
Мы просто дело делаем своё.
А станет мифом или же сказаньем,
достанет наша слава до небес —
мы ко своим Рязаням и Казаням
не слишком проявляем интерес.
Но «Выхожу один я на дорогу»
в Сараево, в далёкой стороне,
за тыщу вёрст от отчего порога
мне пел босняк,
и было сладко мне.
Юрий Кублановский. Посвящается Лермонтову
Мира и забвенья
Не надо мне!
Л.
В альпийском леднике седеющем подснежник
разбуженный угас.
Мир сердцу твоему, хромающий мятежник!
И прежде и сейчас
от выщербленных плит кавказской цитадели
не близок путь.
Печальные глаза с овальной акварели
закрой когда-нибудь.
В испарине скакун, армейская рубаха,
омытый солью стих.
Но твой жестокий смех сжимал сердца от страха
на водах у больных.
Ты зримо презирал актёрские повадки
державного паши.
Но молния сожгла походную палатку
твоей души.
. Не голубой мундир своею чёрной кровью
смывает желчный грим с усталого лица,
а Демон, наконец, спустился к изголовью
взглянуть на своего творца.
1977
Юрий Левитанский. Кое-что о моей внешности
Я был в юности — вылитый Лермонтов.
Видно, так на него походил,
что кричали мне — Лермонтов! Лермонтов! —
на дорогах, где я проходил.
Я был в том же, что Лермонтов, чине.
Я усы отрастил на войне.
Вероятно, по этой причине
было сходство заметно вдвойне.
Долго гнался за мной этот возглас.
Но, на некий взойдя перевал,
перешёл я из возраста в возраст,
возраст лермонтовский миновал.
Я старел, я толстел, и с годами
начинали друзья находить,
что я стал походить на Бальзака,
на Флобера я стал походить.
Хоть и льстила мне видимость эта,
но в моих уже зрелых летах
понимал я, что сущность предмета
может с внешностью быть не в ладах.
И тщеславья — древнейшей религии —
я поклонником не был, увы.
Так что близкое сходство с великими
не вскружило моей головы.
Но как горькая память о юности,
о друзьях, о любви, о войне,
всё звучит это — Лермонтов! Лермонтов! —
где-то в самой моей глубине.
Опальный ангел, с небом разлучённый,
Узывный демон, разлюбивший ад,
Ветров и бурь бездомных странный брат,
Душой внимавший песне звёзд всезвонной,
На празднике — как призрак похоронный,
В затишье дней — тревожащий набат,
Нет, не случайно он среди громад
Кавказских — миг узнал смертельно-сонный.
Где мог он так красиво умереть,
Как не в горах, где небо в час заката —
Расплавленное золото и медь,
Где ключ, пробившись, должен звонко петь,
Но также должен в плаче пасть со ската,
Чтоб гневно в узкой пропасти греметь.
Внимательны ли мы к великим славам,
В которых из миров нездешних свет?
Кольцов, Некрасов, Тютчев, звонкий Фет
За Пушкиным явились величавым.
Но раньше их, в сиянии кровавом,
В горенье зорь, в сверканье лучших лет,
Людьми был загнан пламенный поэт,
Не захотевший медлить в мире ржавом.
Внимательны ли мы хотя теперь,
Когда с тех пор прошло почти столетье,
И радость или горе должен петь я?
А если мы открыли к свету дверь,
Да будет дух наш солнечен и целен,
Чтоб не был мёртвый вновь и вновь застрелен.
Он был один, когда душой алкал,
Как пенный конь в разбеге диких гонок.
Он был один, когда, полуребёнок,
Он в Байроне своей тоски искал.
В разливе нив и в перстне серых скал,
В игре ручья, чей плеск блестящ и звонок,
В мечте цветочных ласковых коронок
Он видел мёд, который отвергал.
Он был один, как смутная комета,
Что головнёй с пожарища летит,
Вне правила расчисленных орбит.
Нездешнего звала к себе примета
Нездешняя. И сжёг своё он лето.
Однажды ли он в смерти был убит?
Мы убиваем гения стократно,
Когда, рукой его убивши раз,
Вновь затеваем скучный наш рассказ,
Что нам мечта чужда и непонятна.
Есть в мире розы. Дышат ароматно.
Цветут везде. Желают светлых глаз.
Но заняты собой мы каждый час —
Миг встречи душ уходит безвозвратно.
За то, что он, кто был и горд и смел,
Блуждая сам над сумрачною бездной,
Нам в детстве в душу ангела напел, —
Свершим сейчас же сто прекрасных дел:
Он нам блеснёт улыбкой многозвездной,
Не покидая вышний свой предел.
Евгений Евтушенко. Баллада о шефе жандармов и о стихотворении Лермонтова «На смерть поэта»
Я представляю страх и обалденье,
когда попало в Третье отделенье
«На смерть Поэта».
Представляю я,
как начали все эти гады бегать,
на вицмундиры осыпая перхоть,
в носы табак спасительный суя.
И шеф жандармов — главный идеолог,
ругая подчинённых идиотов,
надел очки. Дойдя до строк: «Но есть,
есть Божий суд, наперсники разврата. » —
он, вздрогнув, огляделся воровато
и побоялся ещё раз прочесть.
Уже давно докладец был состряпан,
и на Кавказ М.Лермонтов запрятан,
но Бенкендорф с тех пор утратил сон.
Во время всей бодяги царедворской —
приёмов, заседаний, церемоний:
«Есть Божий суд. » — в смятенье слышал он.
«Есть Божий суд. » — метель ревела в окна.
«Есть Божий суд. » — весной стонала Волга
в раздольях исстрадавшихся степных.
«Есть Божий суд. » — кандальники бренчали.
«Есть Божий суд. » — безмолвствуя, кричали
глаза скидавших шапки крепостных.
И шеф, трясясь от страха водянисто,
украдкой превратился в атеиста.
Шеф посещал молебны, как всегда,
с приятцей размышляя в кабинете,
что всё же Бога нет на этом свете,
а значит, нет и Божьего суда.
Но вечно
надо всеми подлецами —
жандармами, придворными льстецами, —
как будто их грядущая судьба,
звучит с неумолимостью набата:
«Есть Божий суд, наперсники разврата.
Есть Божий суд. Есть грозный судия. »
И если даже нет на свете Бога,
не потирайте руки слишком бодро:
вас вицмундиры ваши не спасут,—
придёт за всё когда-нибудь расплата.
Есть Божий суд, наперсники разврата,
и суд поэта — это Божий суд!
Анатолий Жигулин. Стихи
Когда мне было
Очень-очень трудно,
Стихи читал я
В карцере холодном.
И гневные, пылающие строки
Тюремный сотрясали потолок:
«Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи. »
И в камеру врывался надзиратель
С испуганным дежурным офицером.
Они орали:
— Как ты смеешь, сволочь,
Читать
Антисоветские
Стихи!
1962
Борис Чичибабин. Пушкин и Лермонтов
Никнет ли, меркнет ли дней синева —
на небе горестном
шепчут о вечном родные слова
маминым голосом.
Что там — над бездною судеб и смут,
ангелы, верно, там?
Кто вы, небесные, как вас зовут?
— Пушкин и Лермонтов.
В скудости нашей откуда взялись,
нежные, во свете?
— Всё перевесит блаженная высь…
— Не за что, Господи!
Сколько в стремнины, где кружит листва,
спущено неводов, —
а у ранимости лика лишь два —
Пушкин и Лермонтов.
Детский, о Боже, младенческий зов…
Черепом — в росы я…
Здесь их обоих — на месте, как псов,
честные взрослые.
Вволю ль повыпито водочки злой,
пуншей и вермутов?
Рано вы русскою стали землёй,
Пушкин и Лермонтов.
Что же в нас, люди, святое мертво?
Кашель, упитанность.
Злобные алчники мира сего,
как же любить-то нас?
Не зарекайтесь тюрьмы и сумы —
экая невидаль!
Сердцу единственный выход из тьмы —
Пушкин и Лермонтов.
Два белоснежных, два тёмных крыла,
зори несметные, —
с вами с рожденья душа обрела
чары бессмертия.
Господи Боже мой, как хорошо!
Пусто и немотно.
До смерти вами я заворожен,
Пушкин и Лермонтов.
Крохотка неба в тюремном окне…
С кем перемолвитесь.
Не было б доли, да выпала мне
вечная молодость.
В дебрях жестокости каждым таясь
вздохом и лепетом,
только и памяти мне — что о вас,
Пушкин и Лермонтов.
Страшно душе меж темнот и сует,
мечется странница.
В мире случайное имя «поэт»
в Вечности славится.
К чуду бессуетной жизни готов,
в радость уверовав,
весь я в сиянии ваших стихов,
Пушкин и Лермонтов.
Земные взоры Пушкина и Блока
Устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова чёрные глаза
С небес на землю смотрят одиноко.
Я смутно помню тот огромный зал,
Где, опершись на белую колонну,
Средь подлецов, отличьями клеймённых,
Как чужестранец, Лермонтов стоял.
О Лермонтове что сказать могу?
Люблю его могучую строку,
Есенин поравняться с ним не смог.
Чту чудо. Только он сумел взойти
К таким высотам лет до тридцати —
Единственный в шестнадцать лет пророк!
Словно по велению народа
И убитый он заговорил.
Пушкин жил ещё четыре года,
Потому что Лермонтов творил.
Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.
Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.
Попробуем следить за поведеньем двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывшего в себе. ау, любезный друг.
сокрывшего, и пусть, с нас и того довольно.
Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего событья.
Ау, любезный друг! Идёте ли? — Иду. —
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.
А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.
Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не сыщет в них забвенья и блаженства.
Евгений Евтушенко. Лермонтов
О ком под полозьями плачет
сырой петербургский ледок?
Куда этой полночью скачет
исхлёстанный снегом седок?
Глядит он вокруг прокажённо,
и рот ненавидяще сжат.
В двух карих зрачках пригвождённо
два Пушкина мёртвых лежат.
Сквозь вас, петербургские пурги,
он видит свой рок впереди,
ещё до мартыновской пули,
с дантесовской пулей в груди.
Но в ночь — от друзей и от черни,
от впавших в растленье и лень —
несётся он тенью отмщенья
за ту неотмщённую тень.
В нём зрелость не мальчика — мужа,
холодная, как остриё.
Дитя сострадания — муза,
но ненависть — нянька её.
И надо в дуэли доспорить,
хотя после стольких потерь
найти секундантов достойных
немыслимо трудно теперь.
Но пушкинский голос гражданства
к барьеру толкает: «Иди!»
. Поэты в России рождались
с дантесовской пулей в груди.
Николай Рубцов. Дуэль
Напрасно
дуло пистолета
Враждебно целилось в него;
Лицо великого поэта
Не выражало ничего!
Уже давно,
как в Божью милость,
Он молча верил
в смертный рок.
И сердце Лермонтова билось,
Как в дни обидчивых тревог.
Когда же выстрел
грянул мимо
(Наверно, враг
Не спал всю ночь!),
Поэт зевнул невозмутимо
И пистолет отбросил прочь.
Ярослав Смеляков. На поверке
Бывают дни без фейерверка,
Когда огромная страна
Осенним утром на поверке
Все называет имена.
Ей нужно собственные силы
Ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
Разъялась тьма, отверзлась гладь.
Притихла ложь, умолкла злоба,
Прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встаёт из гроба
И отвечает громко: «Здесь!»
О, этот Лермонтов опальный,
Сын нашей собственной земли,
Чьи строки, как удар кинжальный,
Под сердце самое вошли!
Он, этот Лермонтов могучий,
Сосредоточась, добр и зол,
Как бы светящаяся туча,
По небу русскому прошёл.
Аполлон Майков. На смерть Лермонтова
И он угас! и он в земле сырой!
Давно ль его приветствовали плески?
Давно ль в его заре, в её восходном блеске
Провидели мы полдень золотой?
Ему внимали мы в тиши, благоговея,
Благословение в нём свыше разумея, —
И он угас, и он утих,
Как недосказанный великий, дивный стих!
И нет его. Но если умирать
Так рано, на заре, помазаннику Бога, —
Так там, у горнего порога,
В соседстве звёзд, где дух, забывши прах,
Свободно реет ввысь, и цепенеют взоры
На этих девственных снегах,
На этих облаках, обнявших сини горы,
Где волен близ небес, над бездною зыбей,
Лишь царственный орёл да вихорь беспокойный, —
Для жертвы избранной там жертвенник достойный,
Для гения — достойный мавзолей!
Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутолённых глаз
Бессмертного любовника Тамары.
1927, Кисловодск
Константин Бальмонт. К Лермонтову
Нет, не за то тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем не разделяемых мучений,
За то, что ты нечеловеком был.
О, Лермонтов, презрением могучим
К бездушным людям, к мелким их страстям,
Ты был подобен молниям и тучам,
Бегущим по нетронутым путям,
Где только гром гремит псалмом певучим.
И вижу я, как ты в последний раз
Беседовал с ничтожными сердцами,
И жёстким блеском этих тёмных глаз
Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»
Ты говорил: «Как душно мне средь вас!»
Белла Ахмадулина. Дуэль
И снова, как огни мартенов,
Огни грозы над темнотой.
Так кто же победил — Мартынов
Иль Лермонтов в дуэли той?
Дантес иль Пушкин?
Кто там первый?
Кто выиграл и встал с земли?
Кого дорогой этой белой
На чёрных санках повезли?
Но как же так? По всем приметам,
Другой там победил, другой,
Не тот, кто на снегу примятом
Лежал кудрявой головой.
Что делать, если в схватке дикой
Всегда дурак был на виду.
Меж тем как человек великий,
Как мальчик, попадал в беду?
Чем я утешу поражённых
Ничтожным превосходством зла,
Прославленных и побеждённых
Поэтов, погибавших зря?
Я так скажу: не в этом дело,
Давным-давно, который год
Забыли мы иль проглядели,
Но всё идет наоборот!
Мартынов пал под той горою,
Он был наказан тяжело,
И вороньё ночной порою
Его терзало и несло.
А Лермонтов зато — сначала
Всё начинал и гнал коня,
И женщина ему кричала:
«Люби меня, люби меня!»
Дантес лежал среди сугробов,
Подняться не умел с земли,
А мимо медленно, сурово,
Не оглянувшись, люди шли.
Он умер или жив остался —
Никто того не различал.
А Пушкин пил вино, смеялся,
Ругался и озорничал.
Стихи писал, не знал печали,
Дела его прекрасно шли,
И поводила всё плечами,
И улыбалась Натали.
Для их спасения — навечно
Порядок этот утверждён.
И торжествующий невежда
Приговорён и осуждён!
Михаил Генделев. Памяти демона
Как
змея учат молоку
так
змеи любят молоко
но
в молоке перед грозой скисает жало
гюрзу тенгинского полка
вспоила смерть его строку
железным ржавым молоком
не отпускала от груди
не
удержала
шармёр на водах кислых дев
звездострадальца на манер
мадам
да он мясник
мадам
старлей спецназа
царя игральный офицер
младой опальный волкодав
вцепившийся
как бультерьер
в хребет
Кавказу
то
саблезубый как Аллах
и на душе его ни зги
ах на устах его молчок
и
на челе его ни блика
но
выскочив из-за угла
стремглав запутавшись в полах
озноб как мальчик-казачок
бежал висеть на удилах
его словесности его прекраснодиколикой
он
приходил из-за реки
из дела
уцелев таки
и с шашки слизывал мозги
побегом базилика
как будто бы и ни при чём
томительно склоняет в сон
и
самому немного
чёрт
противунравственно и дико
лишь злой чечен не спросит чем
после химчистки от плеча
пах правый пах
и
бряк
рукав бекеши
поэт и в азии поэт
когда скажу и нет
и
над
над уммой милосердия закат
Медины от Святой до Маракеша
из
нашей школы он один
в ком странность я не находил
к выпиливанью лобзиком
аулов цельных Господи
и выжиганью по Корану
и
он коронный он гусар
ага как чувствовал врага
в жару на дне вади Бекаа
пардон муа в полдневный жар
во всю шахну Афганистана
не плачьте пери!
молоком
не кормят змея на душе
не плачьте Мэри
ни о ком
уже не стоит петь рыдать стихи и плакать
под Валериком фейерверк
над офицериком салют
а смерть что смерть
она
лицо
его лизала как собака.
Александр Сазонов (отрывок)
Я правды ничем не нарушу,
Сказав, что под стать колдуну,
Он с детства берёт вашу душу
И держит до смерти в плену.
Характер, как порох, —
Не трогай!
Быть может, отсюда и дар?
Но раньше гусарили много,
А он — не бездумный гусар.
По чёрному небу России
Мелькнул он, судья и пророк,
И веру в мятежные силы,
Тоску по свободе зажёг.
Часто сказки весенней листвы
Мальчик слушал в саду предвечернем.
Белой чайкой взлетали качели
В бесконечный простор синевы.
И окрестность раскрасить успев,
Вечер тихо склонялся над вязом.
И входил мальчуган черноглазый
В нерастраченный говор дерев.
Костер горит, огонь мерцает.
Закат за речкою потух.
И юнкер Лермонтов читает
«Молитву юнкерскую» вслух.
И юнкера в ответ хохочут,
И кто-то «браво» говорит.
Отбой трубит начало ночи.
И лагерь дремлет, лагерь спит.
А Лермонтову всё не спится,
И слушает он не спеша,
Как время ширится и длится,
Как к небу тянется душа!
Вот он постель свою оставил
И улыбнулся тишине.
И у Мартынова поправил
Подушку, сбитую во сне.
Николай Зиновьев. Парус Лермонтова
В бурю страсти однажды ввергнутый,
он вселенскую смёл тоску —
парус белой рубахи Лермонтова
с алым следом в левом боку!
Мир тебе, Человекопарус!
Самый чистый причал мечты,
на земле не нашедший пары,
может, парус последний ты.
Не летучий голландец призрачный,
а реальный в русской душе,
нас лечить красотою призванный
в безнадёжнейшем мираже!
Белый угол. Князь горизонта —
за чертою, где тают льды.
Дух расстрелянного Лермонта,
белый-белый клочок беды…
Ослепительно одинокий,
наскитавшись в пути своём,
не нашёл ты в стране далёкой
то, что кинул в краю родном.
И волнуется море шалое.
Нет поэта. Лишь даль поёт.
Лишь пятно на рубахе алое
так безумно быстро растёт…
2004
Вселенная томится в тёмном сне
Но льются воды, и трепещут лозы
И звёзды в недоступной вышине
Сверкают, словно демоновы слёзы.
И шепчет рок: «Едва ли счастлив тот,
Кому величье — как печать проклятья,
Кого бессмертье алчное влечёт
В могучие и страшные объятья.
Ты встал над прахом вероломных лет
Угрюмой песней, думой вдохновенной,
Ты — радуга, ты — незабвенный свет,
И властелин, и пасынок вселенной. »
И вечный лёд, и снег, и облака,
И вздохи ветра над холодной чащей.
Бессонница, орлиная тоска
И ощущенье высоты томящей.
И что осветит утро бытия,
Сверкнёт пред взором сумрачным поэта —
Лезгинской сабли скользкая змея
Иль первый отблеск горного рассвета?
Без матери быть от рожденья —
Не слишком завидный удел.
Поэт не хотел сожаленья
И маску на душу надел.
Насмешливый, нервный характер,
Угрюмость и маленький рост.
Не с каждым при личном контакте
Бывал он приятен и прост.
Шипела и пыжилась серость,
Сама не имея лица.
О, как им унизить хотелось
Несносного сверхгордеца.
Что им до великого дара,
До жгучей, летящей строки.
И вот затевается свара
И взводятся снова курки.
Была бы натура иная,
Продлились бы ясные дни.
Но звёзды орбит не меняют,
Иначе не звёзды они.
Когда перед фронтом сумрачных гор
Он был расстрелян почти в упор,
Когда навеки его глаза
Замкнулись железным сном,-
Дымясь, большая, как ночь, гроза
Разверзлась над Машуком.
То были не молнии — огненный лес,
Слепящего гнева порыв,
Как будто кожу содрали с небес,
Все нервы вдруг обнажив.
Так, потрясён от вершин до корней,
В тот безысходный час
Над гибелью песни и славы своей
Рыдал белоглавый Кавказ.
Он рисовал в альбом не профиль милый:
портрет — три четверти — был полон скрытой силы:
испанец, живший сотни лет назад,
вернулся в день, похожий на стеклянный:
зима, от снега белые Тарханы
и мальчика обрадованный взгляд.
Он не художник. Выбрал наугад
он образ гранда с цепью филигранной:
об этом предке, покорявшем страны,
в семье отца нередко говорят:
Соратник Альба, сам аристократ,
его страшился Альбион туманный,
его кляли и кратко, и пространно.
. врагам назло, удачлив и богат,
в жестоких битвах шрамами изранен,
отмечен королевскими дарами.
А мальчик смотрит в сонный тихий сад
и чувствует жару, и ветер пряный,
и сумрачной Кастилии туманы,
и андалузских лавров аромат.
Ему с дворнёй общаться не велят,
а маменька — скончалась слишком рано
и бабушка Арсеньева упрямо
твердит, что в этом папа виноват.
Когда бы у него был старший брат,
они бы вместе застеклили в раму
реальный облик Лерма: гордый, славный,
веками воплощающий азарт
эпохи авантюр и древних карт.
Он рисовал в альбом не профиль нежный:
без чёрной шляпы под плюмажем белоснежным,
был старый герцог вновь запечатлён,
но только не придворным живописцем,
а тем, кто зримо сущности и лица,
вне всяких расстояний и времён,
с талантом гениального провидца,
умел создать. В рассказанном о нём
так мало — настоящих очевидцев,
как будто жизни краткие страницы
обожжены невидимым огнём.
Николай Зиновьев. Тарханы
Печально-зелёным раздольем звеня,
Тарханы всплывают средь белого дня.
Там храбрый невольник великой судьбы,
причина печали — в минутах ходьбы.
Вот храм у дороги. Ограды овал.
Он словно их только что нарисовал.
И эту сейчас разорвёт акварель
чужое, нерусское слово — дуэль!
Часовня холодная. Пламя свечи.
Здесь кто-то от вечности спрятал ключи.
Спи, Лермонтов, с болью один на один.
Спи, матушки Родины праведный сын.
Спи, Лермонтов, слова волшебного друг.
Не муж, не отец, только бабушкин внук.
Так будь же на троне российских стихов
один цесаревич во веки веков!