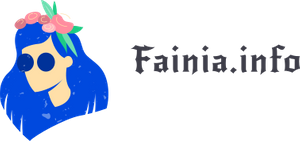Когда бы плёнку отмотать к началу —
я выбрала б другую из дорог, —
где б слово не скиталось одичало,
пока не угнездится в паре строк,
где б неба не искать над головою,
а жить заботой суетного дня.
Где главным было б тёплое, живое —
родимое, родители, родня.
Вдруг вспыхнет фотографией: семья.
Накрытый стол. Картошка, хлеб и масло.
Родители и крошечная я.
Смотри скорей, покуда не погасло!
Но комната тускнеет и дрожит,
просвечивая, словно через марлю.
Ищу, ищу свою былую жизнь
и, как в кармане, роюсь в снах и карме.
А кадрам киноленты всё бежать,
скрываясь где-то там, за облаками.
Напрасные попытки удержать
их грубыми телесными руками.
И всё ж, законы времени поправ,
я вырву из гранитного зажима
тех, кто ходили среди этих трав
и были живы неопровержимо.
Они, всему на свете вопреки,
безвыходные сменят на входные
и выплывут из мертвенной реки –
нетленные, бессмертные, родные.
Я рассекаю секунды, как волны,
властно вторгаясь в минувшие дни.
Воспоминаньями светлыми полны,
кругом спасательным держат они.
Вот ещё чуточку самообмана –
и достигаю заветной черты.
За пеленою ночного тумана
я различаю любимых черты.
Словно вслепую идёт опознанье,
и повторяю, скорбя и любя:
«Помню тебя до потери сознанья,
помню тебя, и тебя, и тебя!»
Если мы ищем – то, значит, обрящем.
Если мы любим – то, значит, живём.
Нет, вы не в прошлом, а вы в настоящем,
в будущем нерасторжимо моём.
Губы свежа виноградным и мятным, –
он никому из живых незнаком, –
я говорю с вами вам лишь понятным,
но непонятным другим языком.
Вновь завывают холодные зимы.
Нет на пути ни души, ни огня.
Всё я живу как-то жизни помимо,
в сторону сносит куда-то меня.
Но ни на пядь, ни на краешек малый
чёрному хаосу не уступлю
папу и бабушку, брата и маму –
всех, кого я и поныне люблю.
Моя бабка, донская казачка, красотка, гордячка,
из тюрьмы убежала в Саратов с другим уже мужем.
А мой дед крепко запил и умер от белой горячки
оттого, что ни ей и ни детям остался не нужен.
Лишь одна фотокарточка в доме моём уцелела:
бабка с длинной косой, дед – усатый и молодцеватый.
И другого я деда застать на земле не успела –
был расстрелян – как все, ни за что – в Сталинграде в тридцатых.
Вот такая моя неизвестная мне родословная –
не дворянская – бедная, нищая и уголовная.
От рожденья дано мне судьбой дорогое наследство:
дарованья, грехи и ошибки, хранимые в генах,
что пускали ростки незаметные с раннего детства
и отмщаются в жизни моей до седьмого колена.
Не грущу о своей родовой непричастности к знати,
о фамильных гербах – принадлежности князей из грязи,
а о том лишь жалею, что не довелось мне узнать их,
что оборваны нити родные и кровные связи.
Всё родство – из намёков, догадок, из снов одиночества
и из щепок, летевших над лесом, порубленным дочиста.
Я, как наледью, скована памятью.
И встаёт из глубин снеговых,
запорошенный пылью и заметью,
город мёртвых и город живых.
Здесь пространство и время распорото,
Ариаднина тянется вязь.
Меж реальным и призрачным городом
существует незримая связь.
Я кружу над своими утратами.
Мир единый распался на два.
Словно в оба кармана запрятаны
одного пиджака рукава.
Каждый смертный, коль любит и помнит он,
здесь отыщет родные сердца.
Жизнь и смерть – это смежные комнаты
одного ледяного дворца.
Все свободно тут перемещаются,
ведь для душ не бывает границ.
А туман всё плотнее сгущается,
растворив очертания птиц.
Вскрик тревожный полyночной птицы.
Яблок стук – в засыпающий сад.
Кто-то просится, в сны к нам стучится,
кто-то хочет вернуться назад.
Взмах волны в обезлюдевшем море,
пенный всплеск молока на плите,
иероглиф в морозном узоре
и таинственный скрип в темноте.
Кто-то хочет прорваться сквозь полночь,
сквозь леса, частоколы засад,
заклинает: «Услышь меня, вспомни!»
Кто-то хочет вернуться назад.
Но следы заметают метели,
подступающий сумрак колюч.
Дверь забита, замки заржавели,
умер сторож и выброшен ключ.
Фетровая шляпка. Узкий ботик.
Волосы уложены волной.
Мне приснилась бабушкина тётя,
никогда не виденная мной,
что исчезла навсегда из вида
на невесть каком краю земли,
с именем красивым Ираида,
в честь которой маму нарекли.
Вот она возникла из тумана –
тайны века, призрачные дни.
Вынул месяц ножик из кармана –
и не стало пол моей родни.
Где была ты, тётя Ираида,
талая вода на киселе,
когда нам усатый злобный ирод
делал лучше жизнь и веселей?
Из глухих соседских недомолвок,
из ночного шёпота: «молчи!» –
выплывал твой образ – зыбок, робок,
сгинувший в карлаговской ночи.
Смутное, летучее виденье,
стрекозиных крылышек слюда.
Проскользнула легкокрылой тенью,
не оставив ботиком следа.
Где твой прах развеян – кто же знает?
Муфта, шляпка, валик надо лбом.
Чем-то мне тебя напоминает
облако в просторе голубом.
Хорошо, что мёртвые не плачут.
Если б разрешили им грустить –
то потоки влаги той горячей
землю всю могли бы затопить.
Провожаем в небе крики чаек,
созерцаем серебристый плёс.
А быть может, мы не замечаем,
что живём под облаком их слёз?
Мне город Шахты видится сквозь дни,
откуда родом пол моей родни,
где я сама ни разу не была.
Всё поглотила медленная мгла.
Писала письма бабушка куме:
«Купили холодильник мы к зиме.»
Каракулей старательная вязь.
Звено в цепи. Времён цепная связь
оборвалась под тяжестью потерь.
Как не хватает мне её теперь.
Далёкие золовки, кумовья,
моя необретённая семья!
Где та моя вода на киселе,
бывавшая всегда навеселе?
Я ваш Иван, не помнящий родства,
стеснявшийся смешного кумовства,
опомнившийся в диком шалаше,
тоскующий по родственной душе.
На редких фото – смутные черты,
знакомые мне профили и рты.
Где вы теперь? Повсюду и нигде.
Расходитесь кругами по воде.
Кисельные мне снятся берега,
неузнанные речки и луга.
Уносят вдаль два белые крыла
печаль по тем, кого не обрела.
Нет очевидцев той меня,
И, значит, не было на свете
В ночи сгоревшего огня,
Что плачет, уходя навеки.
И, значит, не было в миру
Той девочки босой, румяной,
Гонявшей обруч по двору,
Рыдавшей над письмом Татьяны.
Ни старой печки, ни плетня,
Ни сказочной дремучей чащи,
Раз нет свидетелей меня
Тогдашней, прежней, настоящей.
Цепь предков, за руки держась,
Уходит в темный студень ночи.
Времён распавшаяся связь
Отъединённость мне пророчит.
Протаиваю толщу льда
И жадно собираю крохи:
Мгновенья, месяцы, года,
Десятилетия, эпохи…
Законам физики сродни
Тот, что открылся мне, как ларчик:
Чем дальше прошлого огни –
Тем приближённее и ярче.
Любовь, босая сирота,
Блуждает во вселенной зыбкой.
В углах обугленного рта
Застыла вечная улыбка.
Она бредет во мраке дней,
Дрожа от холода и глада.
Подайте милостыню ей.
Она и крохам будет рада.
Нa деревьях осенний румянец.
(Даже гибель красна на миру).
Мимо бомжей, собачников, пьяниц
я привычно иду поутру.
Мимо бара «Усталая лошадь»,
как аллеи ведёт колея,
и привычная мысль меня гложет:
эта лошадь усталая – я.
Я иду наудачу, без цели,
натыкаясь на ямы и пни,
мимо рощ, что уже отгорели,
как далёкие юные дни,
мимо кружек, где плещется зелье,
что, смеясь, распивает братва,
мимо славы, удачи, везенья,
мимо жизни, любви и родства.
Ничего в этом мире не знача
и маяча на дольнем пути,
я не знаю, как можно иначе
по земле и по жизни идти.
То спускаясь в душевные шахты,
то взмывая до самых верхов,
различая в тумане ландшафты
и небесные звуки стихов.
Я иду сквозь угасшее лето,
а навстречу – по душу мою –
две старухи: вручают буклеты
с обещанием жизни в раю.
Никогда ничьим не буду предком,
никому не передам я черт.
Я о том задумывалась редко –
отщепенка, щепка, интроверт.
Кто я, что я? Пропуск, опечатка,
из цепи пропавшее звено,
травка, не пробившая брусчатку,
в землю не упавшее зерно,
повесть с недописанной страницей,
песня с недопетою строкой.
Жизнь, что только мнится или снится,
как поэту снившийся покой.
Может быть, кого-нибудь разбудит
слово из рождённых мною книг.
Знаю, продолжения не будет.
Всё сейчас. Сегодня. В этот миг.
А что ты сберегла от голубых огней,
И золотистых кос, и розовых улыбок?
И. Анненский
А что я сберегла от этих дней,
как меж страниц семейного альбома,
когда – кого на свете нет родней –
все жили под одною крышей дома?
Что сберегла от этого тепла
голландской печки, маминых ладоней,
от времени, не знающего зла,
и доброты, которой нет бездонней?
Растаял шарик в небе голубом…
Шагреневою кожей сердце сжалось.
Остался только маленький альбом,
а в нем тоска, раскаянье и жалость.
В альбоме старом дремлет времечко,
где каждым мигом дорожу.
Ещё я маленькая девочка
и за руку тебя держу.
Дрожу над этой фотографией,
где я ещё пока твоя,
и где на фоне печки кафельной —
вся наша целая семья.
И в доме мирный был уклад ещё,
ещё церквей не пел хорал.
И незнакомо было кладбище:
никто ещё не умирал.
Мое коммунальное детство,
где кухня на двадцать семей,
где утро, несущее свет свой,
и в небо взлетающий змей,
прыгучий без устали мячик,
дворовая дружба навек…
Куда же потом это прячет
усталый большой человек?
О ангелы, – крикну с тоскою, –
назад прокрутите кино!
Там что-то осталось такое,
Забытое мною давно…
Мне холодно. Хочется детства.
Какая блаженная бредь:
уткнуться, прижаться, согреться…
И тоже кого-то согреть.
Не надо приходить на пепелища.
И.Снегова
Не надо приходить на пепелища.
Но я пришла. И пепел ворошу.
Когда-то было здесь моё жилище
и жизнь, не подчинённая грошу.
Во дворик детства прохожу без визы.
Вот здесь был клуб, где раздавался смех.
Здесь мы порой смотрели телевизор,
который далеко был не у всех.
Играли в штандр. Ставили спектакли.
Влюблялись или ссорились навек.
Сейчас уже не вспомнишь – здесь ли? так ли?
стоял так прочно наш двадцатый век.
Мне хочется как следует всмотреться, –
а цел ли мой душевный инвентарь,
не заржавело ль то, что было в сердце,
и так же горячо оно, как встарь?
Настало утро. Высь светла.
И жизнь играет туш.
А где же тьма? Она ушла
в потёмки наших душ.
Настанет темень – глаз коли.
А где же свет из дня?
Он там, куда уже ушли
все, кто любил меня.
Все они умерли, умерли, умерли.
Молча плывут небеса.
В музыке улиц ли, в лиственном шуме ли —
слышу я их голоса.
Сны свои для, задержать умоляю я
свет беспощадный дневной.
Души родимые их оживляю я
жизни своею ценой.
Ночь моя отчая, ты моя вотчина,
там лишь слыву я своей.
Тени Аидовы досыта потчую
кровью живою своей.
Осклабилось кладбище, рвы разевая.
Его ублажает здесь нежность живая.
Холодную землю укроет венок –
и мёртвый уже не вполне одинок.
Пушистое, тёплое слово «Елшанка».
Измученных путников жизни лежанка.
Нас всё убывает, а их большинство,
и смерть здесь справляет своё торжество.
На мраморе белом – две чёрные даты.
«Спасибо, что был в моей жизни когда-то.»
Здесь каждый хоть кем-то посмертно любим.
«Навеки с тобой». «Не забудем. Скорбим».
Сколько любви похоронено
в этих пустынных местах!
Тень силуэта вороньего
на деревянных крестах.
Как я хотела бы тоже здесь
рядом с родными лежать,
наше единство и тождество
пестовать и продолжать.
Может, что было кровинкою,
чем я жила, не ценя,
сквозь эту землю травинкою
снова обнимет меня.
Мне снились фотографии отца,
которых я ни разу не видала.
Держа альбом у моего лица,
он всё листал, листал его устало.
Вот он младенец. Вот он молодой.
А вот за две недели до больницы.
Шли фотоснимки плавной чередой,
и заполнялись чистые страницы.
Вот с мамою на лавочке весной.
Как на него тогда она глядела!
Вот лестница с такою крутизной,
что на неё взобраться было — дело.
Но ведь давно уж нет того крыльца.
И вдруг в душе догадка шевельнулась:
— Так смерти нет? — спросила я отца.
Он улыбнулся: «Нет». И я проснулась.
На кладбище Воскресенском прилюдно –
был праздник 9 мая, весна –
бежал за мною котёнок приблудный
так, словно он хорошо меня знал.
Он в спину ко мне обращал свои зовы,
мяукал, бежал, выбиваясь из сил.
И были глаза у него бирюзовы,
такие, как брат мой когда-то носил.
«Забытый на крейсере плакал котёнок», –
всплывут Маяковского строчки во мне.
Есенинский глупый смешной жеребенок,
стремившийся тщетно к железной спине.
Котёнок играл у меня на могиле,
цеплялся за грабли, валялся в траве.
А я обращалась к Всевидящей Силе,
следившей с улыбкой за мной в синеве.
И чудилось мне, жеребёнок догонит,
котёнок спасётся, поэт не умрёт.
И брат бирюзово смотрел из бегоний,
в улыбке кривя свой мальчишеский рот.
Постоянно знаки получаю
от любимых из-за облаков.
Веткой под окном моим качая,
птицей, залетевшей на балкон,
музыкой, звучащей ниоткуда,
в снах ли получу благую весть, –
всё мне возвещает это чудо,
то, что вы ещё на свете есть.
Вы как воздух, что не замечала,
а теперь глотаю и ловлю.
Я без вас совсем бы одичала,
но спасает то, что я люблю.
Я ищу, что мне дороже хлеба,
в тёплой вороша ещё золе,
что меня так властно манит в небо
и так крепко держит на земле.
Чужое лицо телефона.
Уже никогда, до конца –
ни маминым ласковым тоном,
ни голосом мягким отца
вовек не откликнется трубка.
И я не люблю её брать.
Как нежно, мучительно хрупко –
что обречено умирать,
и как нестерпимо любимо.
Чужие звучат голоса.
Слова их проносятся мимо.
Зловеще глядят небеса.
Вас нет в телефоне и в окнах
когда-то любимых квартир.
И лишь в фотографиях блёклых
ещё сохранился ваш мир,
в домашних и милых вещицах,
таящих тепло ваших рук,
в надгробьях, где жизнь моя тщится
любовь уберечь от разлук.
Я слышу их шорох и запах.
Повсюду их вижу следы.
Живут мои мама и папа.
Зовут меня из темноты.
И падают слёзы, как комья,
но не пробивают броню.
Я занята делом. Я помню.
Я память о близких храню.
Всё дальше, слабее их отзвук и свет, —
родные, любимые, давние лица.
А сны всё не знают, что их уже нет.
Лишь сны не хотят и не могут смириться.
И там, продираясь сквозь толщу и тьму,
лелею тот миг окончания бегства,
когда догоню, припаду, обниму,
«Ну вот наконец-то, — скажу, — наконец-то!»
Ждёшь Божьего ответа,
как быть нам тут, живым.
Но отвечает небо
молчаньем гробовым.
Сиреневые сумерки
окутывают лес.
«Мы живы, мы не умерли», –
мне слышится с небес.
Нереальное утро. Туманный мираж.
Дождь стоит за окном, как невидимый страж.
Заунывный поток, бесконечный мотив
переходит из шёпота в речитатив.
Словно нервы, натянуты струны дождя.
Я устала разгадывать знаки Вождя.
Что мне делать в заплаканном этом краю?
Для чего сберегаешь Ты душу мою?
Вдруг блеснуло, как золотом кто-то прошил,
и, казалось, поддался неведомый шифр.
Мне сказали любимые этим дождём:
«Не волнуйся, мы ждём тебя. Мы подождём».
Их души за нами следят
там, за небесами.
Цветы на могилах глядят
любимых глазами.
Деревья щебечут слова
родных голосами.
О, как бы летела я к вам —
морями, лесами.
Старые, беспомощные, мёртвые,
вы ко мне приходите во сне.
Лица ваши, в памяти не стёртые,
с каждым годом ближе и ясней.
В лунном свете, мягком и рассеянном,
а не в беспощадном свете дня,
вижу ваши я черты осенние,
греясь возле них, как у огня.
Только вы поймёте, как устала я
без родных и близких, без семьи.
Светят в небе зори запоздалые.
Милые вы, мёртвые мои.
Они ушли в глухую небыль.
И глаз их слеп, и рот их нем.
А надо мною только небо,
неумолимое ко всем.
Разгадывать звёздный ребус,
подслушивать Божий глас.
Мне кажется, что всё небо –
из чьих-то любимых глаз.
Отрада моя и растрава.
Я вся – лишь любви оправа.
Растрескавшаяся рама,
где вместо картины – рана.
С этим нежности грузом в груди тону,
мне не справиться с ним никак.
Стопудовая жалость идет ко дну
о двух вытянутых руках.
Покидая земной ненадежный кров,
я вливаюсь в речной поток,
осязая потусторонних миров
обжигающий холодок.
Бездомный мир за окнами пуржит.
Остекленевший взгляд домов напротив.
Как холодно без родственной души.
Бродяга-ветер за порогом бродит.
Никто не прилетит на лампы свет.
Привычно грудь сжимает боль тупая.
Я вырываюсь из контекста лет,
я болевой порог переступаю.
Как тайна, вдруг открытая душе,
в озноб бросает страшная разгадка.
Холодных звёзд рассыпано драже.
Беспомощно нема моя тетрадка.
Только одно непреложно: тоска,
та, что изъедена снами.
Жизнь – это шахматная доска.
Кто-то играет нами.
Шах пораженья, обиды, беды –
в чьей-то всевидящей воле.
Все наши путаные ходы –
только бегство от боли.
Насытился, Господь? Теперь доволен?
Ты получил сполна, чего хотел,
напоминая звоном колоколен
о душах милых, отнятых у тел.
Глазами мёртвых небосвод унизан.
Лишь подойдёт вечерняя пора –
и вновь кому-то приговор подписан
небрежным звёздным росчерком пера.
Всевышний души в невод неба ловит.
Ужасный рок вовек необорим.
Не знать, не знать, что нам ещё готовит
грядущий день, не ведать, что творим.
Хоть всё, что есть, поставь на кон,
все нити жизни свей,
но не перехитрить закон
тебе вовек, Орфей.
Деревьев-церберов конвой
не проведёт туда,
и профиль лунный восковой
в ответ ни нет, ни да.
Рассвет поднимет белый флаг
как знак, что всё, он пас,
чтоб тот, кто вечен и всеблаг,
не мучил больше нас.
Не жизнь – не смерть, ни недруга – ни друга.
Качается над пропастью канат.
Как вырваться из замкнутого круга,
сломать систему тех координат?
Как жить, чтоб жизнь не обернулась в небыль,
не потеряться в омуте потерь?
Сойти бы с рельсов, выжечь дырку в небе,
уйти бы в нарисованную дверь.
И мысль от смерти отвлеку.
А.Кушнер
Дышать запретной тьмою вполдуши,
чтоб не понять чуть большего, чем нужно, –
как призраки шевелятся в тиши,
и бездна разевает рот радушно.
Грядущее, попозже, не теперь!
Дверь-западня. Моё дыханье часто.
Во мгле таится будущего зверь
и выжидает рокового часа.
Оно ещё не видимо уму,
но покрывает тело липкой дрожью.
О, не спугни неведомую тьму.
Ходи, дыши и думай осторожно.
Холод нападает на тепло,
где-то затаившееся в клетках.
Тучами луну заволокло.
Бесполезно сон искать в таблетках.
Тьма и нежить улицы ночной.
Выхожу одна я на дорогу.
Вьюги хвост, как ящерки ручной,
вьётся и змеится у порога.
Кто со мною – ангел или бес?
Мир метельный, мертвенный, смертельный.
Как ни затыкаю щели бездн –
холодок струится запредельный.
Вьюги завивается петля.
Кажется, что кем-то я заклята.
Сиротеет волглая земля,
ёжась без небесного пригляда.
Ветер – создатель метельных мелодий,
тёмная зимняя виолончель.
Кто-то меня за собою уводит,
как крысолов, в поднебесную щель.
Я отравилась чарующим слогом
горького сна, ледяного питья.
В воздухе веет Ивановым, Блоком,
чёрною музыкой небытия.
Когда умру, куда я дену вас,
любимые, которых больше нету?
Останьтесь, схоронитесь про запас,
как за щекой серебряной монетой.
Я кровью и слезами вас пою
и кутаю в тепло воспоминаний.
И живы вы, пока о вас пою,
пока душа не скроется в тумане.
Как вам надёжно в памяти дворцах,
уютно в детской сладких сновидений.
Я об одном молила бы Творца:
– Когда пришлёшь Ты и за мной гонца —
оставь в живых возлюбленные тени.
Безмолвные воды Стикса
однажды вспугнёт ладья,
в которой, навеки стихнув,
уже буду плыть и я.
И вдруг с тоскою острожной
взмолюсь: «Дорогой Харон!
Оставь мне память о прошлом,
хотя бы её не тронь.
Не дай ей с водою слиться —
ну вот тебе горсть монет,-
оставь мне родные лица!»
но он отвечает: «Нет».
Всё глуше тоска потери.
Плывёт по волнам ладья.
Всё дальше и дальше берег,
где душу оставлю я.
Моя душа распята, проклята –
сплошная ахиллесова пята.
Но вновь назад к самой себе тянусь.
Окаменею, коль не обернусь.
Я в прошлое, как в шахту, опущусь.
Я из него уже не возвращусь.
Невозвращенкой среди вас живу.
Но только это держит на плаву.
Небо серо-жемчужное
падает на дома,
затушевав всё чуждое,
пряча его в туман.
Может быть, это чудится?
Наколдовал шаман?
Нет ни людей, ни улицы,
только туман, туман.
Происки ли Всевышнего,
что опустил рукав,
затушевав всё лишнее,
в вату упаковав?
Всматриваться, улавливать,
одолевая сны, –
может быть, что-то главное
выйдет из пелены?
Может быть, даль прояснится
где-то у той черты,
сквозь негатив проявятся
будущего черты.